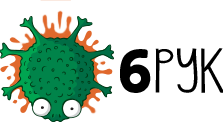Добром за зло
ак скажу: денег мне ваших не нать, не думайте плохого. И зачем тогда подсел, уважаемые? А потому что есть желание выступить беседой, развести разговор. В глухомани два месяца провёл, ни единой человечьей души не видел, не слышал, словом не перекинулся. Вредно это — язык ржавеет, мох в ушах растёт. Ежели такое запустить, то и в мозги корни пустит. Никак нельзя человеку без общения. Даже от пива откажусь, хотя выпить завсегда рад, особенно когда угощают. А подозрительность оставьте и на дубьё не коситесь. Оно строго для зверья припасено, потому что в здешних лесах бешеного отродья развелось больше обычных волков. Зайцы давненько на вас нападали? А на меня сегодня утречком и дважды. Еле отогнал. Интересно? В таком случае спешу рассказать. Хотел о короле минотавров доложить, но могу о диких животинах пару баек подпустить...»
Когда судьба сводила Хорша с полоумными пустобрёхами, его охватывало непонятное смятение. Прервать говорливого дурака строгим окриком не получалось, а съездить по мордасам получалось не за что. Болтовня изливалась так плотно, что и полсловечка не вставить, не говоря о простой просьбе заткнуться по добру по здорову. Вот и получалось, что навязчивые собеседники беспрепятственно делились с Хорша своими бессмыслицами. И слишком часто стали попадаться на пути бесноватые проповедники, деды-сказочники, говоруны-задушевники, мнимые герои, врали-эпичники и просто языкастые проходимцы.
Хорша сидел в углу корчмы один, но говорливый мужик-охотник всё равно обращался к нему во множественном числе. Величал «уважаемыми» и «добрыми господами», многосложно отказывался от угощения и денег, хотя Хорша и мысли такой не держал — что-либо предлагать полоумному. Видать, в своих одиноких странствиях мужичок репетировал выступление перед широкой публикой и теперь шпарил как по писанному:
«…Короля минотавров недавно забороли. И одолел негодяя не абы кто, а дева прекрасная, как и предсказано было. И всю его рогатую дружину извела. Те с зачарованными трезубцами выступили, но остриёв не хватило, полегли. Им бы с вилами лучше или боевыми граблями. Следом дракон в драку полез — и его в расход. Подгорный глиняный буйвол в битву вступил — обезголовили. Минотавры огнедышащему быку поклонялись, баловали, из деревень детишек малых для него воровали. Злой зверь, совсем без соображения, но детей любил. И вот странность: всяк знает, что минотавры под горой живут, но откель там глиняному буйволу взяться? Получается, что колдун какой-нибудь слепил, а бычок его пожрал. У самолепных скотинок заведено своих родителей поедать. И случилось у рогатого внутреннее горение. Да всё впустую — убила дева. Варвара-воительница, не говорил? Теперь скажу. Как у быка отнялась головизна, так полыхнуло оттуда, три дня водой заливали. И вот что хочется сказать по этому поводу…»
Некоторое время Хорша выискивал в монологе хотя бы секундную паузу. Безуспешно, слова громоздились друг на друга без единого зазора. Слушать болтуна оказалось невыносимо, и Хорша принялся лениво изучать мужичка. Он неуловимо напоминал одного выжившего из ума егеря, что любой разговор сводил к охоте. Но егерь был смешной и безобидный, любил устраивать представления и вынюхивать мнимую дичь под кабацкими столами. А этот балабол не спешил ползать по грязному полу в поисках свежих погадок. Зато подвязал узлом кудлатую бороду, чтобы не мешала говорить.
Заныл правый висок.
Ещё и дубина эта... Хорша ткнулся носом в кружку и неприметно скосил глаза, чтобы не выдавать своего любопытства. Ненужная осторожность — мужик заливался не хуже глухаря на току, полностью отдавшись своим россказням. У него аж язык полиловел от натуги, а на лбу выступил лихорадочный пот. Правой рукой болтун ухватил узел на бороде, и теперь тянул, дёргал вверх-вниз, помогая себе шибче шевелить челюстью.
Суровый инструмент стоял у стены словно позабытый. Сквозь тёмную поверхность багрового оттенка проступала путаница древесных волокон, словно рукоять сработана из живого булата. Верхушку пронзал солидный кованый гвоздь. Сам Хорша привык упражняться с мечом, но и в дубинах кое-что разумел. Очень странное оружие и, конечно, никак не для охоты. Врёт болтун. Таким хорошо пробивать шлемы. Хорша не мог избавиться от дурной мыслишки, что не так давно уже встречал подобную штуковину. И главное, в голове она неясным образом увязывалась со всеми несносными болтунами, что встречались на пути за последнее время. А за бессмысленным словоблудием случайных попутчиков всё чаще чудилась издевка и скрытый замысел.
«Огреть бы его, верно? — предательски шепнул внутренний голос. — Только не поможет.»
Первый раз Хорша по-настоящему сорвался, запустив кружкой в бродячего певца. Досадное происшествие случилось давно, на праздник блаженного Хомы Песнюка, когда всякому позволялось голосить заздравные песни. Горе-бард был пьян, страдал всеми пороками речи, а на его лютне осталось только две струны. Но проклятый песнопевец, словно этого мало, развернул крохотную пустышку-припевку в полновесную сагу. Тяжелая хоршина рука сработала как бы сама по себе, и кружка выбила любителю вокализов два передних зуба.
На следующее утро, спозаранку, в комнату явилась прислуга. Глупая бабка за свой век не уяснила, что не следует соваться к загулявшим постояльцам. А если явилась, то молчи, не гневай демонов Похмельной Горы. Набравши впалой грудью побольше воздуха, бабка коротко поделилась, что утречко не задалось, намусорено, спину ломит, а просо дорожает, вечером драка случилась и певчик до сих пор с кружкой во рту ходит, с отвара могильника её слабит, а с коры пробкового дерева запирает, с мечами по городу нельзя ходить, а с вилами почему-то можно, и сосед не иначе как колдун, а мельничиха ведьма, и что... Перед сонным взором Хорша предстал сморщенный мешок с костями, жалкий и покрытый плесенью, он беспрерывно шамкал горловиной, натужно пытаясь изобразить человеческую речь. Такая картина испугает любого, и «мешок» вылетел за дверь от молодецкого пинка ногой. Лишь после Хорша кое-как разогнал в голове туман из сна и хмеля и сообразил что к чему.
Чувствуя себя вдвойне прескверно, Хорша поспешил уехать, оставив приличную мошну серебра. Он дал зарок отныне держать себя в руках, даже если какой-нибудь несносный говорун опять вздумает проверять его терпение.
И проверка не заставила себя ждать.
Спустя неделю Хорша заехал в Мохнатые Поддубовицы. В этом поселении друидов обитали старшие члены общины — благообразные деды с моховыми бородами до пола. Неприглядные домишки вросли в землю по самые окна, на крышах колосились многолетние травы, повсюду росли древние, свёрнутые штопором деревья, с трудом доживающие свой век. Как и у почтенных древопастырей, на их ветвях отросли седые бороды лишайников. Отовсюду веяло старческой немощью и тяжёлым грузом прожитых лет.
Хорша по собственному опыту знал, что местные друиды не говорливей деревьев. Хорошо если на какой вопрос молча пройдут мимо, а то могут из лейки обдать или навозом кинуть, чтобы не тревожил сад зряшным пустозвонством. Кроме того, многие друиды, по примеру своих зелёных подопечных, отводили собственным ртам роль дупла и держали в них птиц или белок.
Хорша прибыл в Поддубовицы от имени городского паладинария. В Мрачнянах решили поддерживать местную богадельню, но вместо денежного довольствия выписали очередную похвальную грамоту. Но деды не роптали, потому что всё равно не видели ценности в металлических деньгах. Зато грамота была затейливо начертана на хорошем куске бересты.
Обычно старейшина принимал подарки не проронив ни слова и так же молча выпроваживал Хорша за дверь. Повинуясь злому року, встреча сразу пошла вразнос.
Словно рухнула старая плотина, разом выпустив на волю всё накопленное за годы безмолвия. На Хорша внезапно обрушился поток саркастических благодарностей за привезённую писульку, сонм разнокалиберных сведений по составлению гербариев, кручению поделок из коры, разновидностей древесных прививок и пришкварок. Изо рта старейшины метнулся сычик, в ужасе выпучив глаза. А старикан всё молол словесную кашу, крепко ухватив драгоценного собеседника за одежду. Напуганный Хорша был вынужден бежать, пожертвовав половиной рукава. Не имея возможности догнать проворного молодчика, старейшина вслед затянул скрипучим фальцетом псалом из атласа растений.
«Какой друид?» — Хорша с досадой отметил, что загулялся по лабиринтам памяти. Ещё и думать начал подстать словесному поносу, что исторгал из себя охотник. ...Мужик? Охотник? Хорша окончательно стряхнул дымку размышлений. Мужики оживленно говорили на два голоса, каждый своё, не перебивая друг друга, а умело через раз подставляя слоги и слова. Хорша протер глаза. Он по прежнему сидел в корчме, но принудительных собеседников оказалось уже двое.
Давешний охотник со странной дубиной и ещё один баламошка в душегрейке. Когда он подсел и откуда взялся Хорша совершенно не заметил. Нехорошо, когда к служивому человеку неприметно подсаживается незнамо кто. Но второй мужичонка имел самый безобидный вид. О чем он вёл рассказ понять было невозможно, дикция у душегрейного изрядно хромала: то ли шепелявил он, то ли присвистывал, но слов не разобрать. «Сунуть бы ему кулаком в ухо, — мрачно подумал Хорша. — И охотнику промеж ног сапогом, а потом по морде бородатой добавить. Чтобы знали как с чушью к незнакомым людям приставать...» Но ничего подобного Хорша не сделал, а поднялся из-за стола и сделал два шага в сторону двери.
Мужики будто того и ждали, тут же повскакивали и двинулись следом.
— На место, — скомандовал Хорша сквозь сжатые зубы.
— Уходите, господа дорогие-хорошие? Ну мы с вами тодыть. По дороге всёгошеньки расскажем, веселее вместе путь! — на удивление складным хором грянули мужики.
И снова их речь утратила всякую связность, и каждый завел рассказ о чём-то своем. У охотника уже скопилась пена в углах рта, глаза подёрнулись дымкой, отчего он окончательно приобрёл внешность одержимого.
Хорша стал мрачнее тучи, потому что ясно увидел, к чему идёт дело. Ведь он уже сполна хлебнул путешествий в подобных компаниях.
...После случая с друидом Хорша побаивался разговоров с людьми. Но, слава Ынке!, дела на тот момент закончились, и Хорша отправился в Мрачняны наслаждаясь тишиной. Еще и погодка выдалась благостная.
На дороге меж заливных лугов ему повстречались две симпатичные селянки. Они лишь шушукались, бросали игривые взгляды и мелодично хихикали, так что Хорша поначалу не почуял опасности. То ли от мягкого солнца разомлел, то ли от вида румяных молодиц, но Хорша сам позвал беду:
— Что, барышни-красавицы, одни-одинёшеньки гуляете?
— А мы не одни! — хором грянули селянки.
Не успел Хорша и глазом моргнуть, как «красавицы» зазвали с соседнего луга своих подружек — пять толстозадых баб с тупыми красными рожами.
«...Ну как не спеть нелепицу покосную такому видному мужчине, ежели по дороге? Конечно спеть, раз просят! А что три строчки всего, так это не страх, повторим разов дюжину-другую. Потом о детках своих подробно расскажем: кто дристун, а кто тугосеря. Ребятёнков много, но и путь не близкий...»
Хорша дал коню шпоры, не без удовольствия опрокинув самую говорливую бабу в дорожную пыль.
Через пять миль конь без всякой видимой причины захромал. Хорша беспрерывно оглядывался, боясь, что из-за поворота вот-вот покажутся бабы, и потому чуть было не въехал сослепу в телегу, стоящую поперек дороги. Хорша вцепился в гриву, чтобы не вылететь из седла, но причиной была вовсе не резкая остановка: на сломанной телеге сидела целая компания стариков с большими и видно что разговорчивыми ртами. Вот самый старый раззявил пасть, махнул языком как сигнальным флагом и пошло-поехало: «Будь здоров, мил-человек! А мы с ярмарки и совсем поломалися, как увидеть можно. Это соседушка мой, братья мои, кум и полукумок, и вот чего рассказать-то хотим...». Несмотря на почтенный возраст, старики довольно резво попрыгали с телеги и, похватав дорожные мешки, бодро зашагали следом. Оторваться от них на хромой лошади оказалось невозможно.
В три часа пополудни солнце пекло. Голоса немелодично скрипели каждый на свой лад. Досужее словоблудие ни на мгновение не прерывалось, и Хорша обливался потом. За последнее время он не жёг колдунов и с ведьмами не баловал, только паладинские писульки развозил — кто же сглазил, кто наказал... И возможно ли это — зловредным волшебством выписать бородатых пустобрёхов вместо привычного почечуя или моровой язвы? «Давай, спроси у них об этом, — прозвучал ехидный голос в голове. — Наверняка им есть что сказать по этому поводу!»
Больше всего Хорша боялся потерять над собой контроль и потому специально завязал ножны ремешком. Небезопасно, ну и ладно. Пусть нападают грабители, лишь бы не расписывали ломоту в суставах, не давали советов по уходу за бородой.
До постоялого двора Хорша добирался словно в бреду. Голова гудела как чугунный котёл, в ушах шелестели голоса. Но удалось прихлопнуть дверь конюшни прямо перед носом у треклятых попутчиков. Этот маленький успех обнадёжил, и Хорша перевёл дух.
Коновал оказался на удивление молчалив. За всё время, пока он осматривал коня, он не проронил ни слова, только покашливал. Где-то на улице бубнили деды. Они робко скреблись в закрытую дверь, прикладывали к дырке от сучка попеременно то глаза, то губы. Глядя на кхекающего коновала, Хорша успел отринуть все подозрения о причудливом сглазе. И вдруг выяснилось, что коновал просто прочищал горло перед тем как от души высказаться.
«Откель хромОты наступили не выведал, зато перебрать могу, чем животинка верно не хворает. Так до сути и дойдём постепенно, пока супружница с покоса траву целебную доставит. А с ней и тётки её, и моя полюбовница, и матуха с сеструхой прибудут, накормят, обогреют, задушевным разговором развлекут...» Добрый господин торопится? Вот и коновал вспомнил, что надобность зовёт в путь, ровно по дороге с Хорша. Господин хороший передумал? Ничего страшного, и в обратную сторону готов мчаться коньий лекарь. А по дороге славно потешимся беседой...
«Берегись, доведёт тебя задумчивость до беды!» — внутренний голос прозвучал тревожным набатом. Вокруг всё та же корчма. Перед Хорша увивается мужик, что-то беспрерывно лопочет через силу, синюшная морда вся в клочьях пены. Одежда испачкана слюнями, тело сотрясают мелкие судороги. Чтобы не упасть, горе-оратор подпирает себя дубиной. Другой, в душегрейке, шепелявил над ухом. Неужто смогли убаюкать голосами, окаянные?!
«Смотри-смотри, вон ещё один подбирается!»
Действительно, от барной стойки к Хорша направлялся гном, который уже издаля завёл какую-то речь. Поперек бороды, густо окрашенной соком багряницы, у гнома был заплетен узорчатый серебряный клин.
Хорша затравленно повернул голову, чуть не столкнувшись лбом с душегрейным, который лез поведать что-то интимное и непременно на ухо. Зато в такой близости стала понятна причина его шепелявости — язык у мужика был аккуратно продет толстой заколкой. При разговоре странное украшение не только мешало говорить, но и вставало в распор, так что приходилось время от времени лазить в рот пальцами.
Толстая заколка, пронизывающая до странного жилистый язык, ухватистая дубина с поперечным гвоздем, серебряный клин в красной бороде... И словно пелена упала с глаз. «Культисты!..» — с облегчением выдохнул Хорша.
Не всегда Хорша разъезжал с похвальными грамотами. Приходилось заниматься и доставкой эдиктов мрачнянской ынквизиции, а ещё присматривать, чтобы распоряжения выполнялись на местах. Это очень расстраивало всевозможных еретиков, культистов, сектантов и прочих ничтожных людишек, которым претило Слово Ынки.
Например, в сезон покосов небывалую популярность набрала секта «Дети Травы». Бездельники предпочитали водить хороводы вокруг соломенных чучел, рядиться в лопухи и устраивать оргии. А вместо раскаяния к посланнику Ынки выслали парламентёров с ритуальными косами. Хорша спасла вредная привычка «детей» день-деньской курить жгуты из полевых трав, из-за чего незваным гостям не удалось застать его врасплох. С того случая от запаха самокруточного дыма у Хорша начиналась чесотка, а рука сама хваталась за меч.
Адепты сомнительных практик тяготели к убийствам исподтишка. И все культисты обожали замысловатые отличительные знаки. Татуировки, узорное шрамирование, серьги и кольца, вериги и фетиши — любая ерунда годилась в знаки, служила духовной опорой и заодно дарило братьям-сектантам чувство «локтя».
Хорша по привычке потянул носом. Нет, не пахнет пережжёным сеном. Мертвечинкой тоже не веет, и привкуса ладана не слыхать. Но беззаботная троица вне всяких сомнений принадлежала к одному культу. Прободённый язык не самый хитрый символ, хоть облеки его в форму красной дубины, хоть выкрась бороду красным и вставь клин. Как же получилось, что Хорша догадался только сейчас? Это показное дружелюбие виновато, некроманты не умели улыбаться, а эльфы-враждебники сразу хватались за ножи. Никто не лез с добросердечными разговорами.
Откуда же явились эти бесноватые болтуны? И тут, в который раз невольно погрузившись в пучину воспоминаний, Хорша вдруг отыскал там Стоязыкого.
Случилось это в канун Свиньиного дня. Хорша вёз щедрый подарок для одной лечебницы, что затерялась в северных холмах. Как обычно, мрачнянский паладиний вместо денежной помощи выписал очередную порцию благодарностей. Дом для скорбных духом держали монахи, поэтому вместо грамоты Хорша пришлось тащить расписную деревянную статую Ынки.
Тучный ынок-смотритель несказанно обрадовался богоугодному подношению и непременно захотел показать гостю заведение. «А паладиний хитрый лис, тонко людей чувствует!» — размышлял Хорша, пока смотритель тащил его по тёмным коридорам.
— Здесь у нас полоумища и четверть-разумники, мы их даже не привязываем. В данной келье укушенные эльфийским клещом, до сих пор в лихорадке пребывают, так что и не топим у них. А тут содержатся болезные, проживающие в других мирах.
Хорша только из вежливости взглянул через смотровое окошко на дураков, бесцельно бродящих по комнате. Некоторые трапезничали невидимой едой или перелистывали призрачные книги. Другие вели беседы с воздухом, часто на придуманном языке. Один сумасшедший повздорил со своим собеседником и покатился по полу, награждая щедрыми тумаками воображаемого противника.
«Так вот почему паладиний водит дружбу с местной больничкой — удобно сбывать с мрачнянских улиц невменяемых горожан», — подумал Хорша. Вдруг его внимание привлёк пациент в углу. Этот не буянил, сидел смирно, а его мутные глаза двигались каждый по своей орбите. Больше всего Хорша поразил язык: словно бордовый червь, разлохмаченный на конце, тот жил самостоятельной жизнью, выписывал в иссохшем рту немыслимые фортели, бился о зубы и временами завязывался в узел.
— Занятный говорун, не правда ли? — немедля взялся комментировать настоятель, заметив интерес гостя. — Подобрали на тракте, неизвестно кто таков. Болтает без устали. Пробовали строгий компресс на рот накладывать, так в клочья языком изорвал!
Ынок уже бренчал ключами и отпирал дверь, поспешая продемонстрировать редкий экспонат.
Вблизи небывалое уродство впечатляло ещё сильнее. Своим гибким органом негораздок мог болтать совсем не двигая челюстью или вовсе с закрытым ртом. Язык при этом игриво проскальзывал сквозь сомкнутые губы и дразнился словно змеиный. И беспрерывно проистекал бессвязный рассказ обо всём:
«...страсть всякого одолеет если сварена хорошо, иных даже наизнаку выворачивает, а потом кого-то в подвале съедят, а кому-то лишь серебряным пальчиком погрозят, другое дело дойдёт ли древодевонька домой, пусть и с шестиногим? ведь если на чужое позарился, то берегись бороды с узлами, и запахнись чтобы не продуло, а то унесёт, и всяко лучше на землю сесть, очертиться квадратом, и в путь на острове к северным морям, но сколько мучное в колодце не меси всё одно охотник изловит...»
Хорша старался возвести глаза к потолку, чтобы лишний раз не пялиться на гадкий отросток. И озвучил первое предположение, которое взбрело в голову:
— Уж больно страхолюден, может он не умом болеет, а демоном одержим? Или колдовством испорчен. Сжечь бы его и дело с концом! Или свинюкам скормить.
И тут Хорша показалось, что глаза у дурачка на секунду сошлись на нём, мелькнули осмысленно и ехидно: «Не балуй воевода, а то Стоязыкий отшлёпает тебя языком!»
И строго погрозил бордовый кончик.
Но уже через секунду зенки вновь затуманились и разбрелись в разные стороны, а бредкий дурак продолжил молоть чепуху. Хорша решил что ему послышалось.
На том и закончился визит, но случайно оброненное имя Стоязыкого накрепко прилипло к Хорша. Спускаясь на мрачнянский тракт, он с неудовольствием заметил, как на разные лады бубнит под нос предостережение, данное балаболом. Словно силился сложить фразу получше, оформить в стих или хотя бы звучную присказку. И словно подали таинственный сигнал — окаянное слово раз за разом стало назойливо попадать в поле внимания. Оно мелькало здесь и там, то оброненное в толпе, то произнесённое с особым смыслом. И фирменное заливное «сто языков», и бард бренчащий про идолы древности, и даже неплотно прикрытая ставня выстукивала под сквозняком: «сто-я-зы-кий».
В конце концов Хорша нашёл рецепт, как избавиться от паразита. Полдня он только и делал, что твердил устав, а к вечеру перешёл на запас похабных частушек. Стоязыкая чушня нехотя отвязалась.
«Не сдавайся, задрёма! Хватай скамейку, поддержи разговор!» — внутренний голос по прежнему не желал воспринимать ситуацию иначе как курьёз. Хорша потряс головой, в которой опасно зазвучали отзвуки позабытой стоязыкой угрозы.
Он ещё раз оценил арену возможной схватки. Неплохая идея — с размаху оглоушить собеседников скамьёй. И места достаточно, но неясно, чего ждут противники: охотник с дубиной, мужик с проколотым языком и гном с багровой бородой. Мертволюбы на их месте давно бы достали костяные ножи, а древоводы Последнего Дня непременно угостили еловой пикой. Когда же эти недотёпы обнаружат свои истинные намерения?! Но нет, они с беспечным видом заняли места вокруг, ни на секунду не закрывая ртов. Особо усердствовал шепелявый.
...Тот прилипливый коновал тоже стал шепелявить и присвистывать, ведь уже после второго удара распрощался с передними зубами. А после пятого начал ещё и гнусавить разбитым носом. Это не заставило коновала заткнуться — напротив, только подхлестнуло его красноречие. В сложных выражениях он благодарил Хорша за труд и заботу, что так умело и ловко удалил гнилушки. И за нос отдельно спасибо, раздалось носопырище вширь, отчего дышится теперь не в пример вольготнее. А после коновал припомнил занимательный случай мордобития на прошлогодней ярмарке и тут же принялся сбивчиво его излагать. Рассказу немного мешал Хорша, который уселся на болтуна верхом и методично отвешивал оплеухи.
Поразительно, но коновал не обращал на плюхи никакого внимания. Словно он по собственной воле разлёгся на дороге, а каждый новый удар не досаднее комариного укуса. Мороз прошёлся по спине Хорша — ему показалось вдруг, что коновал стал ещё более разговорчив. Теперь любая ничтожная мелочь будила воспоминания: и обрывок тучки в небе, и коровья лепёшка на дороге, и красноватый отблеск в глубине хоршиных глаз. Всё рождало неисчислимое множество тем для разговора. Слова наталкивались друг на друга, громоздились в кучи, предложения лепились в бесформенные комки, и коновал исторгал их водопадом, выплёвывал, выталкивал прочь языком, чтобы не подавиться. Столько нужно рассказать, а на беду и рот один, и язык прикушен, и руки заломлены так, что невозможно помочь себе жестами. И коновал шлепал распухшими губами, хлюпал, пыхтел, чуть ли не с любовью глядя на Хорша щелочками заплывших глаз.
Хорша так и остановился с кулаком, занесённым для очередного удара.
Да скольких он уже повстречал таких, безобидных пустомелей, снедаемых жаждой общения? Вот скороход, что и на подвёрнутой ноге скакал наравне с лошадью. За полчаса успел пересказать свои похождения, краткое содержание доверенных посланий и все памятные события жизни. И ничуть при этом не запыхался. Прилипчивую тётку на базаре Хорша и пальцем не тронул, но крикнул находчиво: «Лови вора!», и её смяли толпой. А тому уличному оборванцу Хорша чуть не выбил глаз, в сердцах запустив в него медяк, чтоб отстал. А тот и не просил ничего.
Всё странно и не складывается воедино. Ещё минуту назад у Хорша не оставалось сомнений насчёт надоедливых говорунов, но блестящая догадка погасла столь же стремительно, как и возникла. Неужто и в самом деле Стоязыкий шлёпнул языком? Что ещё за зверь такой, не божок, не пророк? Глупость какая-то. Культисты или нет, проклятие или безумный вывих в мире... Или сам Хорша сходит с ума, и ему уготовано законное местечко в лечебнице, посреди потерявшихся сумасшедших?
«Недурной вариант! Делай что хочешь, и соседи интересные!»
В который раз Хорша рывком вернулся к реальности. Сердце бешено колотилось, лицо горело, словно он из проруби выскочил.
Беззаботные болтуны даже не взглянули на него. Гном заботливо отёр своей бородой пену с лица охотника, а себе начистил губы куском сала, чтоб шибче скользил разговор. Шевелявка в душегрейке вставил в рот ложку, чтобы не клинила заколка. Они сидели так, словно впереди ещё вся вечность и нужно целую вселенную, до последней крупинки, перемолоть в слова.
Хорша зажмурился. Ускользнувшее понимание вдруг вернулось обратно. Он сделал несколько глубоких вдохов, пока не закружилась голова и не защемило в груди. Хорша обратился в рот, губы, нёбо, зубы и язык, а остальное тело потеряло всякую чувствительность, словно бы истончилось и бесконечно уменьшилось.
«…Так скажу, в охоте не сведущ, и в промыслах не силён, но книжицы читательствую, и с ловчьим кодексом ознакомлен. Так по службе моей выходило немало примечательных историй, о которых имею полное желание в деталях поведать...»
О чудо, слова Хорша сами начали находить неуловимые пустоты, впрыгивали, умело втискивались в гомон собеседников, не мешая, а дополняя, превращая разговор в единый монолит из пустого словоблудия. И унялся ноющий висок, и мысли охватила небывала лёгкость, а болтовня вдруг зазвучала небывалой стихирой.
Где-то далеко Стоязыкий усмехнулся бездонным ртом.